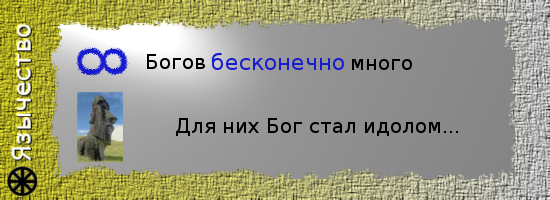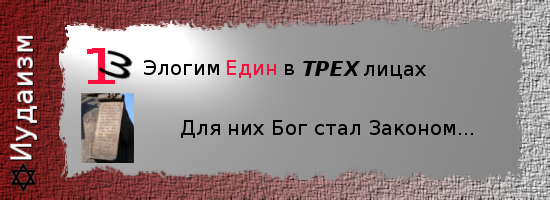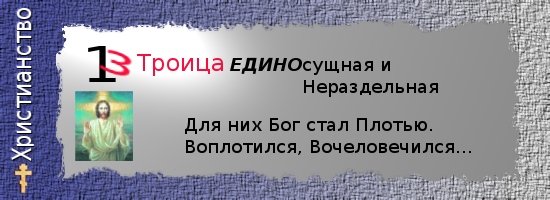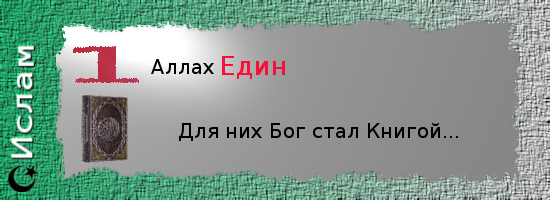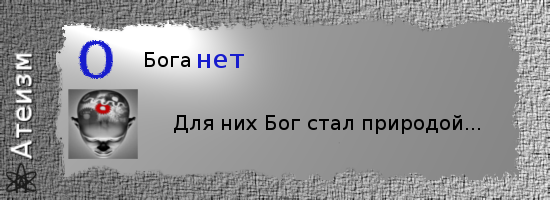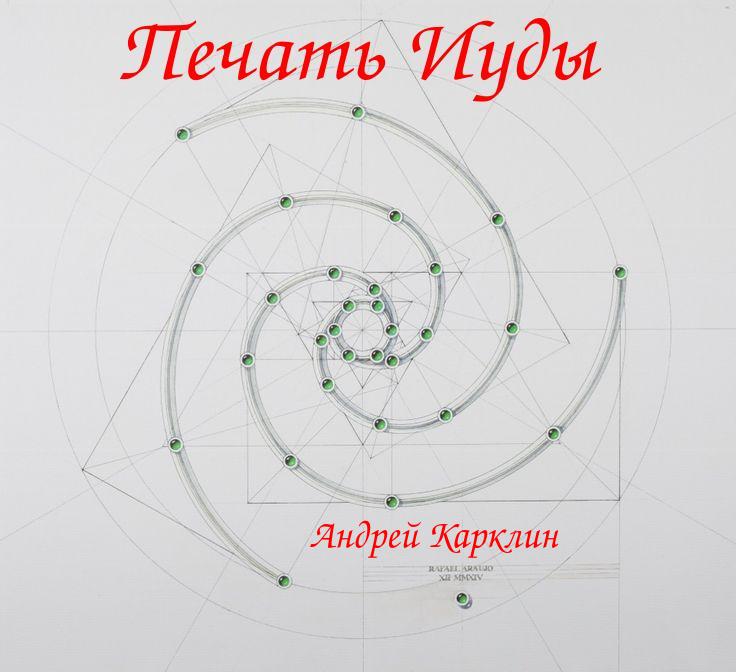|
Вопросы и ответы
|
Мерзость запустения, стоящая на святом месте, часть 1
Глава из книги профессора Беляева "О безбожии и антихристе".
Мерзость запустения, стоящая на святом месте, и седьмины Данииловы
Изъясняя пророчество о седьминах по порядку, переходим к истолкованию двух последних изречений этого пророчества, особенно важных и вместе с тем особенно трудных для перевода и понимания: изречения о мерзости запустения (или опустошителя) и изречения о предопределённой и окончательной гибели опустошающего (или опустошённого).
Для нас особенную важность имеет первое из этих изречений, и потому мы обратим на него преимущественное внимание.
В нашем русском Синодском переводе Библии это изречение передано следующим образом: И на крыле святилища будет мерзость запустения. Этот перевод согласен со многими древними и новыми авторитетными переводами этого места; но, подобно им, он не буквален. В еврейском тексте мысль выражена короче и несколько иначе, в следующих словах: מְשֹׁמֵם שִׁקּוּצִים וְעַד־כָּלָה (ве аль кенаф шиккуцим мешомем). Be аль кенаф значит: и на крыле; шиккуцим – мерзости; мешомем – опустошающий. По-видимому, перевести это изречение легко. Тем не менее и буквальные в небуквальные переводы этого изречения до крайности различны.
Так, при буквальных переводах, одни выражение: ве аль кенаф, переводят: и на крыле, другие – и на крылах, третьи – при крылах (при крыле), четвёртые – под крылом, пятые – и на крылатой, при чём разумеется птица, именно – орёл. Слово шиккуцим одни переводят словом мерзости, а другие – родительным падежом того же имени, поставляя его в зависимость от ве аль кенаф, т. е. одни переводят: и на крыле мерзости, а другие – и на крыле мерзостей. Слово мешомем один переводят родительным падежом, поставляя его в зависимость от слова шиккуцим, другие – именительным падежом. Одни переводят его словом запустение, другие полагают, что его можно переводить и словом запустение или словом опустошающий, или опустошитель третьи утверждают, что его до́лжно переводить исключительно словом опустошающий, опустошитель, иные переводят его словом ужасная и т. д.
Всё эти различия есть и в буквальных переводах. Но, кроме того, в них есть ещё другие различия, вносимые отступлением от буквы текста. Почти всё эти различия относятся к выражению: ве аль кенаф. Так, одни переводят его: и на краю, другие – и на верху, третьи – и на верху храма, на маковке или на коньке (высочайший пункт здания) храма, на кровле храма, иные – на криле храма, опять иные – на храме. Некоторые слово храм заменяют словом святилище.
В еврейском тексте рассматриваемого изречения никакого глагола не поставлено. Не ставится он и в буквальных переводах. Но он, конечно, есть, и в подлиннике подразумевается, а в переводах небуквальных прямо ставятся. Но какой именно глагол нужно подразумевать? Переводчики и в этом не сходятся между собой. Одни из них ставят глагол будет, другие – явится или придёт, третьи – станет, четвёртые – ступить, пятые – ляжет.
Мы перечислили только важнейшие различия в переводах рассматриваемого изречения: не упоминаем о менее значительных особенностях разных переводов.
Разнообразие переводов, конечно, происходит от трудностей, которые представляет переводимое изречение. Трудности в настоящем случае двоякого рода: одни заключаются в самом слово-выражении изречения, другие в содержании или в мысли его.
Трудности первого рода, филологические, в том, что в изречении глагол не поставлен, и не известно, какой глагол подразумевается в нём; что грамматическое отношение между словами не определено с твёрдостью и точностью и разными переводчиками и толкователями понимается различно; что каждое из трёх слов изречения имеет много различных значений.
К филологическим трудностям присоединяются ещё большие трудности, заключающиеся в таинственности смысла этого изречения. Нельзя перевести ни одной фразы с какого бы то ни было языка, не уяснивши предварительно её смысла. Хотя бы перевод грамматически и лексически был буквален и точен и вообще удовлетворял бы существенным требованиям как того языка, на котором фраза написана, так и того, на который она переводится, но если переводчик не понимает смысла её, или понимает его смутно, или не уверен в том, что он понимает его точно и полно; то нельзя ручаться ни за точность, ни даже за правильность перевода. В этом случае в буквальном переводе, помимо недостатков, наиболее ему свойственных и особенно часто встречающихся, может не оказаться и того важного достоинства, к достижению которого переводчики буквалисты напрягают свои усилия: полного соответствия перевода подлиннику, точности. Может случиться, что буквальный перевод будет выражать совсем не ту мысль, какая высказана в подлиннике, или в нём не будет выражено никакой определённой мысли. Всё это вполне применимо к изъясняемому нами изречению. Прежде всего, буквальных переводов этого изречения существует несколько; они значительно отличаются один от другого, и нелегко сказать, какой из них есть самый верный в отношении к букве текста. Затем, смысл каждого из буквальных переводов этого речения сам по себе не ясен, не понятен. Кому ни скажете изречения: и на крыле мерзостей опустошающий, или: и на крыле мерзость опустошающего, или замените в этих изречениях слово опустошающий словом запустение, всякий спросит: о чём тут речь? Какой смысл содержится в этих словах? Без сомнения, этот вопрос задаёт себе и каждый переводчик этого изречения и, прежде чем перевести последнее, так или иначе, решает этот вопрос. Таким образом, истолкование этого изречения предшествует его переводу и оказывает влияние на самый перевод. Без сомнения, знающий и опытный толкователь Писания может оказывать существенную помощь переводчику Писания, особенно при переводе изречений трудных для перевода. Таково именно и есть рассматриваемое нами изречение. Но, к сожалению, в настоящем случае толкователь сам находится ещё в большем затруднении, чем переводчик. Какой настоящий и полный смысл этого таинственного и тёмного пророчества, этого в точности и с твёрдостью никто не знает. Изъяснить это изречение гораздо труднее, нежели перевести его. Можно только более или менее приближаться к пониманию истинного смысла его, не имея притом уверенности, какое изъяснение лучше, какое хуже. Понятно, что различных толкований этого изречения ещё больше, чем различных переводов его. Каждому из трёх слов изречения придаётся то одно из собственных, то одно из переносных значений, и таким образом получается чрезвычайное разнообразие толкований. При толковании принимаются в соображение контекст речи, параллельные библейские изречения, общее догматическое учение Церкви, исповедания, секты и вообще того религиозного общества, к которому принадлежит толкователь. Большое влияние на характер и способ толкования оказывают также личные религиозные убеждения и общие взгляды толкователей на книгу Даниила, на пророчество последнего о седьминах и на те исторические события, совершившиеся и имеющие совершиться, которых касается пророчество о седьминах. Наконец, остроумие и оригинальность воззрений толкователей тоже не остаются без влияния на характер и способ изъяснения изречения. А различия в толкованиях вносят различия и в переводы изречения. Под влиянием толкований являются переводы, более или менее отступающие от буквы и допускающие слова и выражения, которым в подлиннике нет соответствия, но которые требуются мыслью, влагаемой переводчиком в изречение. Такие небуквальные переводы, сделанные под влиянием толкования, являются с древнейших времён; появлялись они и после и продолжают выходить и до настоящего времени. Из авторитетных древнейших переводов изъясняемое изречение переведено не буквально у Семидесяти и в Вульгате. В этих, как и во многих иных переводах, например, в переводе Феодотиона, самое важное отступление от буквы текста в том, что слово крыло заменяется словами храм или святилище, или же к слову крыло присоединяется какое-либо одно из этих слов, причём вместе оба эти слова: крыло и храм, или крыло и святилище, выражают одно понятие – или целого храма, или части его.
Так как перевод Семидесяти пользуется высоким церковным, а отчасти и научным авторитетом в Церкви Православной, а Вульгате в церкви Латинской придаётся одинаковое значение с еврейским текстом Ветхого Завета, то естественно, что оба эти перевода оказывали и доселе оказывают огромное влияние на тех переводчиков и толкователей, которые состоят сынами Православной, или Латинской Церкви. Так как, далее, перевод Семидесяти есть древнейший из всех переводов Священного Писания Ветхого Завета, сделан этот перевод с рукописей подлинного текста, написанных за несколько или даже и за много веков до Рождества Христова, сделан тогда, когда Евреи жили ещё в своём отечестве, хорошо знали язык, на котором были написаны их Священные книги, имели храм, в котором, как святыня, хранились Священные книги, имели первосвященников и священников, которые блюли эту святыню от повреждения; то естественно предположить, что Семьдесят переводили с такого еврейского текста, который по букве был ближе к подлинным Писаниям авторов Священных книг, нежели имеющийся у нас текст еврейской Библии. Кроме того, в переводе Семидесяти мы отчасти можем познакомиться с тем пониманием библейского текста, какое имела Ветхозаветная Церковь в третьем веке до Рождества Христова. Правда, что касается до значения пророчеств и духа Писания, то Иудейская Церковь не могла обнимать их с такой ясностью, понимать их так глубоко и широко, как это стало доступно Церкви Христианской; но буквальный смысл библейского текста ветхозаветным людям был понятнее, чем нам. Вот почему перевод Семидесяти, несмотря на свои несовершенства, имеет и научное значение и может оказывать помощь как переводчикам еврейского текста Библии на другие языки, так и толкователям его. Действительно, перевод Семидесяти принимают в соображение и такие учёные, для которых он не имеет церковной важности, которые не придают никакого значения ни авторитету Восточной Церкви, ни авторитету отцов Церкви, ни даже авторитету дровней Вселенской Церкви, – разумеем протестантских учёных.
Хотя Церковь с древнейших времён для книги Даниила приняла перевод Феодотиона, а не Семидесяти, однако влияние перевода Семидесяти и Вульгаты на позднейшие переводы, не исключая самых лучших и новейших, сказалось в переводе изъясняемого нами изречения. Так, в Синодском русском переводе Ветхого Завета, сделанном с текста еврейского, поставлено: и на криле святилища, причём, слово святилища напечатано курсивом – знак, что этого слова в подлиннике нет. Это слово внесено в текст на основании переводов Семидесяти и Феодотиона, или, по крайней мере, соответственно им. У Семидесяти и у Феодотиона поставлено: καὶ ἐπὶ τὸ ἰερόν, и на святилище.
Протоиерей Павский и Архимандрит Макарий (Алтайский миссионер) выражение: ве аль кенаф перевели: и на крыле храма. Образец такого перевода в Вульгате et erit in templo abominatio desolationis. В славянской Библии поставлено: и во святилищи.
Затем, в славянской и русской Синодских Библиях и в переводах Павского и Макария поставлен глагол будет, и даже не обозначен курсивом, между тем как в еврейском тексте никакого глагола не поставлено. Для употребления глагола будет подают пример перевод Семидесяти 322 и Вульгата. Что глагол в этом изречении должен стоять в будущем времени, это видно из контекста речи: в окружающих изречение предложениях глаголы поставлены в будущем времени. Но что в этом изречении подразумевается именно глагол быть, а не какой-нибудь иной, это можно полагать только с вероятностью. Иные переводчики и толкователи ставят здесь другие глаголы.
Оригинальная особенность перевода Семидесяти в том, что причастие мешомем переведено не единственным числом, а множественным, τῶν ἐρημώοεων. Почему у Семидесяти это слово поставлено во множественном числе, мы не знаем. Эта особенность перевода Семидесяти не нашла подражания в позднейших переводах.
Самое важное отступление от буквы подлинника в древних авторитетных переводах и в тех переводах, которые в рассматриваемом месте подобны им, есть упоминание о храме, или о святилище. Естественно возникает вопрос, как и почему древние переводчики открыли в этом изречении мысль о храме или о святилище, тогда как в подлиннике говорится о крыле? Решение этого вопроса важно для уяснения смысла рассматриваемого изречения.
Еврейское слово כְּנַף (канаф) значит крыло, т. е. птичье крыло. Но как в других языках, например, в русском, так и в еврейском это слово имеет много несобственных значений, из которых иные очень далеки от понятия птичьего крыла. Так, в Ветхом Завете говорится образно о крыльях утренней зари (Пс.138:9), о крыльях ветра (Пс.17:1;103:3), о крыльях как покрове (Пс.16:8). Во всех этих местах употреблено слово канаф, во множественном числе. От понятия о распростёртых крыльях слову канаф придано значение края, оконечности какого либо предмета; отсюда словом канаф обозначаются: крыло или фланг войска (Ис.8:8), край верхней одежды (1Цар.24:5,12), край одеяла (Иез.10:8) и самое одеяло (Руф.3:9), край или граница земли (Ис.24:16), края или границы земли (Иов38:13; Иез.7:2). В русском языке крылом, кроме многих других предметов, называется боковая, второстепенная пристройка к краю главного корпуса здания. Такого рода пристройки были и при Иерусалимском храме и, по-видимому, носили название крыла, как можно догадываться на основании повествования Матфея и Луки об искушении Иисуса Христа дьяволом: Берёт Его дьявол в святой город и поставляет Ею на крыле храма, ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ (Мф.4:5; ср. Лк.4:9). Будем ли мы разуметь под πτερύγιον (крылом) маковку или высочайший пункт храма, как думают некоторые, или допустим, что Евангелисты этим названием обозначали какую-то боковую пристройку или часть храма, хотя имеющую основание на земле, но высоко возносящуюся своей кровлей или верхом. Несомненно, во всяком случае, то, что Евангелисты этим словом назвали какую-то часть храма. Для нас не особенно важно знать, какую именно часть храма Евангелисты называют крылом, а важно то, что крылом они называют часть храма. Впрочем, несомненно, что часть эта находилась или на высоте храма, или, по крайней мере, верх этой части находился столь далеко от поверхности земли, что броситься с него на землю, значило убиться до смерти. Но если Евангелисты какую-то часть храма называют особым термином по-гречески, то быть не может, чтобы она не имела особого названия на еврейском языке. Весьма возможно, что в рассматриваемом изречении книги Даниила словом канаф именно и называется та часть храма, неизвестная нам в точности, которую Евангелисты по-гречески назвали πτερύγιον. Почему не допустить, что в этом изречении мы имеем единственное место в Библии, в котором эта часть храма обозначена словом канаф? Конечно, мы можем это только предполагать, хотя и со значительной вероятностью: ведь Иерусалимский храм был разрушен почти за две тысячи лет до наших дней. Но совсем в ином положении находились Семьдесят переводчиков: в их время храм ещё существовал, и они могли отлично знать все части его и названия их. Для нас ве иль кенаф – тёмное изречение, а для них оно могло быть совершенно ясно. Они сразу и без колебания могли видеть, что в этом изречении у Даниила говорится о части храма, называемой крылом, а не о каком-нибудь ином крыле.
Но спрашивается, почему же Семьдесят перевели: καὶ ἐπὶ τὸ ἰερόν, на святилище, а не перевели: καὶ ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἰερόν, и на крыле святилища? Потому, что смысл всего пророчества указывает на осквернение храма, – не одной какой-либо его части, а всего храма. О части говорится вместо целого. Be аль кенаф может значить: на храме, на крыше храма, на высоте или на верху храма, на высшем пункте храма. Мысль та, что мерзость запустения, находясь на высоте храма, будет венцом его, будет господствовать над ним, подобно тому, как статуи, поставленные над фронтоном или на краях кровли здания, господствуют над последним. Так как в Ветхом Завете идолы и другие принадлежности и действия языческого культа назывались мерзостью, то в рассматриваемом месте весьма удобно видеть указание на идолов, которые будут поставлены на кровле, на самых видных местах храма, и таким образом будут как бы попирать его и всем проходящим давать знать, что этот храм уже не есть храм Божий, а находится в распоряжении враждебной Богу силы.
Замечательно, что в объясняемом изречении указание на святилище или храм находят даже такие переводчики, для которых всего дороже еврейский текст и которые на нём только и основываются. Так, у нас есть „Священные книги Ветхого Завета, переведённые с еврейского текста для употребления Евреям. Вена. Издание Рейхарда. 1877”. Здесь объясняемое нами место переведено следующим образом: и на верху святилища будет мерзость запустения.
Мы не можем, однако, умолчать о недостатках, которые гебраисты замечают в переводе объясняемого изречения у Семидесяти и в Вульгате. Вот как говорит об этих переводах Михаэлис: „По-видимому, их переводу благоприятствует то, что Сам Христос истолковал слова именно в допускаемом ими смысле (Мф.24:15; Мк.13:14). Но между тем как Христос указал скорее на мысль пророческих слов, чем привёл самые слова, упомянутые переводчики, напротив, так как они обязаны были выразить слова не меньше, чем смысл, оказались в передаче слов менее старательными. Они не только слово канаф, которое они передали словом храм, приняли за независящее слово, между тем как оно поставлено в состоянии сопряжения и посему согласуется со следующим словом шиккуцим, управляя им: но и наоборот, слово шиккуцим, несмотря на то, что оно находится в состоянии независимости, перевели так, как будто бы оно было в состояли сопряжения”. Согласно этим требованиям конструкции речи сам Михаэлис перевёл изречение так: И на крыле мерзостей будет опустошающий 323 .
Иные переводчики не решаются ставить в своих переводах этого места слово святилище, или слово храм, причём, одни из них, тем не менее подразумевают его, а другие совсем не усматривают в этом изречении указания на храм, или святилище.
Из древних переводов таков перевод Сирский, как это видно из латинской интерпретации его в полиглоте и из толкования на книгу Даниила Ефрема Сирина, пользовавшегося Сирским переводом. В полиглоте имеется следующий латинский перевод с Сирского перевода: denique super extremitates ahominationis incumbet vastitas 324 , т. e. наконец на краях (или крыльях, или концах) мерзости ляжет запустение. Не ясно, какую мысль переводчики соединяли с этим изречением. Сходен с этим переводом латинский перевод этого изречения в толковании Ефрема Сирина на книгу пророка Даниила. „Et super alas abominationis desolatio, и на крыльях мерзости запустение. Ибо, объясняет это изречение Ефрем, Римляне внесут в храм орла и поместят там изображение своего императора. Это и есть то, о чём сказано: Когда увидите мерзостное изображение, о чём сказано через Даниила пророка (Cum videritis abominabilem signum dictum per Danielem Prophetam” 325 . Характерная особенность Сирского перевода в том, что слово мерзость поставлено в ближайшую связь со словом крылья, в родительном падеже, зависящем от слова крылья, а слово запустение поставлено в именительном падеже и есть подлежащее. Напротив, в прочих древних переводах и в новых слово мерзость поставляется в именительном падеже, слово запустение в родительном, в зависимости от слова мерзость, а слово на крыле (или на крыльях) принимается за обстоятельство места для обоих этих слов, и в зависимость от него слово мерзость не поставляется. Схема Сирского перевода: запустение на крылах мерзости; схема прочих переводов: мерзость запустения на криле (или на храме). – Другая особенность Сирского перевода, принадлежащая, впрочем, не ему одному, заключается в том, что еврейское слово канаф переводится не единственным числом, а множественным 326 . Обе эти особенности Сирского перевода, равно как и толкование Ефрема Сирина на это место, показывают, что переводчики на сирский язык Священного Писания в рассматриваемом изречении под словом мерзость разумели нечто мерзкое, имеющее крылья и производящее или приносящее с собой запустение, или же служащее знаком запустения.
В переводах новых сходно с Сирским переводом передано это изречение в английской Библии, напечатанной в 1886 г. в Оксфорде. В основание этого издания Библии положен перевод её с подлинных текстов 1611 г., но сличённый со многими древними авторитетными переводами, пересмотренный и снабжённый вариантами. В этой Библии рассматриваемое изречение переведено так: and upon the wing of abominations shall come one that makes desolate, т. e. и на крыле мерзости придёт опустошитель; а на поле поставлено: Upon the pinnacle of abominations shall be et caet., т. e. на верху мерзости и т. д. Подобным же образом переводит это изречение немецкий гебраист Гезений: Und auf des Gräuels Schwinge (kommt, erscheint) der Verwüster. denn der Feind der Gottesgemeinde wird auf Flügeln des Götzengreuels getragen gedacht, wie etwa Jahve auf den Cherubim, т. е. и на крыльях мерзости (придёт, явится) опустошитель, потому что враг Церкви представляется носимым на крыльях мерзостного идола, подобно тому, как Иегова бывает носим Херувимами.
Из других переводов нового времени, в которых это изречение передано буквально, отметим следующие. Перевод Лютера: und bei den Flügeln werden stehen Gräuel der Verwüstung 327 , т. e. и при крыльях будут стоять мерзости запустения. Какие понятия соединял Лютер со словами: Flügeln и Gräuel, и вообще, как он понимал это изречение, мы не знаем. В Берленбургской Библии переведено: Über den abscheulichen Flügeln wird ein Verwester kommen 328 , т. e. на отвратительном крыле явится опустошитель.
Различны переводы изречения о мерзости запустения; но ещё более разнообразны толкования этого места. Хр. Б. Михаэлис, перечисливши старинные изъяснения этого речения, продолжает: „А у новых толковников почти столько же умов (мнений), сколько голов” (Recentiorum vero interpretum tot fere sententiae, quot capita sunt) 329 . После Михаэлиса до настоящего времени число толкователей этого изречения чрезвычайно умножилось. Но с умножением толкователей только усилилось разногласие, так что и к новым и новейшим толковникам вполне применимы слова Михаэлиса. Как всё изречение о мерзости запустения, так и каждое слово его, равно как и отношения между словами истолковываются чрезвычайно различно.
Прежде всего, крайне разнообразно изъясняется выражение: ве аль кенаф, и на крыле.
Одни, как Свида, Гезихий и многие другие толкователи, придают слову канаф значение высшего пункта храма Иерусалимского, верха кровли, общее – верха храма, или святилища. Отсюда выражение ве аль кенаф будет значить: на верху храма, или просто: на храме. Это толкование основывают главным образом на том, что Евангелисты Матфей (4:5) и Лука (4:9) словом πτερύγιον назвали высокую часть храма Иерусалимского, что πτερύγιον есть то же, что ἀκρωτήριον, т. е. означает высшую выдающуюся часть здания, в настоящем случае – храма.
Против такого толкования делают возражения. Говорят, у Евангелистов сказано: πτερύγιον τοῦ ἱερόῦ, а не τοῦ ναοῦ, крыло святилища, а не храма; а это показывает, что у них речь не о крыше, или маковке храма, а о крыле, или боковой пристройке к святилищу. – Указывают ещё на то, что и греческое πτερύγιον и еврейское канаф означают крайние или выдающиеся пункты вбок, в ширину, а не вверх 330 .
Оба эти возражения Кейля справедливы. Тем не менее они не ниспровергают толкования, а только побуждают несколько изменить его. Пусть πτερύγιον означает не маковку храма, а боковую пристройку при нём; но когда сказано: ἐπὶ τὸ πτερύγιον , то этим указывается на верх этой части или пристройки храма. Пусть и канаф означает не кровлю храма, или высший пункт её, а боковую пристройку при храме; но раз сказано: ве аль кенаф, этим указано на верх её. Да и не важно, как мы уже говорили, знать, о какой части храма говорится у Даниила: важно решить вопрос, есть ли в его изречении указание на храм, или нет.
Иные, например Геферник, против обсуждаемого толкования выставляют то возражение, что в слове канаф не заключается никакого указания на храм; потому что из еврейской древности не известно ни одного другого примера употребления слова канаф в этом значении. Хотя это значение и явилось в позднейшее время в применении к Иродову храму, но тут своим происхождением оно обязано, быть может, греческому словоупотреблению 331 .
Против этого возражения до́лжно заметить, что если бы в другом месте Ветхого Завета какая-либо часть храма называлась канаф, то в таком случае не могло бы быть никакого сомнения относительно значения канаф в рассматриваемом изречении. К сожалению, такого употребления слова канаф в Ветхом Завете не встречается, и потому-то в слове канаф в изъясняемом изречении одни находят указание на храм, другие не находят. При этом первые хотя и не могут в подтверждение своего толкования привести доводов решительных, бесспорных и неопровержимых; но косвенные доказательства в его пользу всё-таки имеются. Это толкование не есть ни бесспорное, ни единственное, но его можно признать наилучшим, и оно есть самое распространённое.
Другие толкователи хотя и находят в изъясняемом изречении указание на храм, но указание косвенное. По их мнению, словом канаф означается не какая-либо часть храма, а римский орёл, которого завоеватели Иерусалима внесли в храм Иерусалимский. Это – толкование Ефрема Сирина.
По мнению третьих, например Геферника, „канаф означает extremitas regionis, самый крайний пункт, часть страны или места, и выражение аль кенаф шиккуцим значит – на самой крайней высоте мерзость, т. е. на самом высоком месте, где будут совершаться мерзости. Но в Иерусалиме высочайшим пунктом был храм, и на него-то именно и указывает это выражение” 332 . Действительно, канаф как в единственном, так и во множественном числе, в некоторых местах Ветхого Завета означает края или последние пределы земли (Иов37:3;38:13; Ис.11:12;24:16; Иез.7:2). Но не следует забывать, что в этих местах выражениями: кенаф гаарец (край земли) и канфот гаарец (края земли), означаются крайние пункты широты, или долготы, вообще концы или края горизонтальной поверхности. Крайней же точки высоты, вершины какого-либо предмета слово канаф не означает. И это по той причине, что переносные значения слова канаф: край или края земли, края покрывала и т. п., взяты с образа птицы, распростирающей свои крылья; а птицы распростирают крылья вширь, а не ввысь.
Несколько похоже на толкование Геферника изъяснение Генгстенберга. Всё изречение он переводит так: „И на верх мерзости придёт (ступит) опустошитель”. Слово канаф – крыло он понимает, как образное обозначение верха, вершины. Мерзостное крыло или крыло мерзости, по мнению Генгстенберга, означает „верх храма, настолько осквернённого мерзостью, что он уже не заслуживает более имени храма Божия, но имя идольского храма... А что опустошитель будет наверху храма, или придёт на верх храма, это, – говорит Генгстенберг, – мы понимаем, как обозначение полнейшего разрушения его, насколько овладение высочайшей частью предполагает предварительное обладание всем остальным” 333 . Раскрывая и обосновывая своё толкование, Генгстенберг утверждает, что храм был мерзостно осквернён нечестием Иудеев и за это разрушен 334 .
Это мнение не новое. Его привёл, но не как собственное мнение, Христиан Бенедикт Михаэлис в следующих словах: „На крыле мерзостей, т. е. на храм, сделавшемся для Бога омерзительным из-за нечестивых людей, которые осквернили его (храм) своими злодеяниями и богохульством, будет опустошитель, римское войско, или народ грядущего вождя (стих. 26)” 335 .
Против этого изъяснения до́лжно сказать, что канаф само по себе не означает вершины, или верха предметов.
Мнение Генгстенберга несколько видоизменяет Оберлен. Он также в слове ве аль кенаф находим указание на верх, но только не храма, а мерзости Израиля, осквернившей храм. Согласовывая слово мешомем с кенаф, признавая его определением к слову кенаф, Оберлен переводит рассматриваемое изречение следующим образом: И по причине верха мерзостей, производящего опустошение. Под верхом мерзостей Оберлен разумеет крайнюю или высшую степень мерзости, допущенной Израилем, которая влечёт за собой опустошение, потому что она и сама по себе есть запустение. По мнению Оберлена, „Богослужение народа, который по своему неверию умертвил помазанника Господня и который после этого всё более и более коснел в своём самооправдании и жестокосердии, было идолослужением; народ, который так согрешил против Всесвятейшего, исполнен шиккуцим, мерзостей”. „После умерщвления мессии, – продолжает Оберлен, – мерзости всё более и более умножались, до тех пор, пока они, незадолго до разрушения Иерусалима, не достигли своего верха в осквернении храма зилотами 336 , которое и имел всего более в виду Иисус Христос в своём пророчестве 337 и о котором Иосиф 338 , с явным намёком на наш стих, говорит: „Они считали близким к исполнению предсказание о своём отечестве; ибо было одно древнее предсказание, что город будет завоёван и святилище будет сожжено после войны тогда, когда возгорится междоусобица, храм Божий осквернят руки своего же народа. Этому предсказанию зилоты верили, и, тем не менее сами сделались орудиями исполнения его” 339 . Выражение в принятом тексте LXX ἐπὶ τὸ ἱερὸν, которое Иисус точнее объясняет словами: ἐν τόπῳ ἀγίοῳ, основывается, как это видно из выразительного параллельного места у Марка (13:14): ὅπον οὐ δεῖ, не в слове кенаф, – для этого и случайная аналогия со словом πτερύγιον (Мф.4:5) также не даёт достаточного основания, – но в слове шиккуцим, которое означает не вообще мерзость, но мерзость религиозную, предметы, оскверняющие святилище 340 .
И это мнение не новое. Такое же по существу мнение приводит Хр. Бенед. Михаэлис, говоря, что именем крыла обозначается „отряд или множество людей, совершающих мерзкое, каковыми были Иудеи перед разрушением города” 341 .
Против этого толкования имеет силу то самое, что сказано было по поводу толкования Геферника и Генгстенберга.
Слово канаф само по себе не может означать храма в том смысле, что он находится на самом высоком месте в Иерусалиме; не означает оно, – опять-таки взятое само по себе, – и верхушки храма, осквернённого мерзостью; не означает оно, наконец, и высочайшей степени злочестия Иудеев, которыми храм был осквернён. Эти три мнения о значении слова канаф Геферника, Генгстенберга и Оберлена не имеют достаточной опоры в филологии, не имеют основания в тех значениях слова канаф, которые встречаются в разных книгах Ветхого Завета.
Разумели ещё под именем крыла весь храм Иерусалимский потому, что Иудеи надеялись, что он будет для них покровом и поэтому представляли его наподобие крыла. Об этом мнении упоминает вскользь X. Б. Михаэлис 342 . Оно, по-видимому, довольно правдоподобно. Христианская Церковь при общественном Богослужении молит Бога, чтобы Он покрыл христиан кровом крылу Своею. Это образное выражение взято из молитвы царя Давида, который просил Бога: в тени крыл Твоих укрой меня (Пс.16:8). Это изречение показывает, что Иудеи покровительство Божие, действительно, представляли образно в виде осенения крылами. Нет ничего удивительного, что Иудеи и храму, как жилищу покровительствовавшего им Бога, могли придавать образное значение крыл, которыми птица покрывает своих птенцов и таким способом защищает их от непогоды, холода и от врагов. Но из Писания не видно, чтобы Иудеи называли свой храм крылом. Точно также ничем нельзя доказать, что Архангел Гавриил назвал крылом именно храм в значении покровительствующей Иудейскому народу святыни.
Обзор всех этих мнений показывает, что толкователи в рассматриваемом месте книги Даниила находят указание на храм Иерусалимский, но только или прикровенное, или косвенное. Указание на храм одни из них, большинство, находят в слове: и на крыле, другие, немногие, в слове: мерзость. Первые под крылом разумеют: или римского орла, изображённого на воинских знамёнах и внесённого завоевателями Иудеи в храм Иерусалимский, чем означалось попрание святыни язычниками; или орла, как идольской птицы, символа языческого бога Юпитера, причём внесение его в храм означало идольское осквернение храма; или самый храм, как покровителя Иудейского народа; или храм же, но как занимающий высочайшее, господствующее над городом положение в Иерусалиме; или храм, как осквернённый злодейством Иудейского народа, дошедшим до высочайшей степени, до такой высоты, до какой только может возноситься человеческое нечестие; или же разумеют не весь храм, а только верх его, выдающуюся вверх часть храма, причём, подразумевается, часть метафорически указана вместо целого.
Вторые утверждают, что слово шиккуцим означает не всякую вообще мерзость, а только мерзость в отношении к религии и к святыне, частнее – к храму.
Но были и теперь есть и такие толкователи, которые ни в слове: и на крыле, ни во всём вообще рассматриваемом изречении не находили никакого указания на храм и изъясняли это изречение совсем иначе, нежели вышеприведённые толковники.
Так, Зостман в своём Комментарии на пророчество Даниила о седьминах 343 даёт следующее изъяснение рассматриваемого изречения. Крыло он отождествляет с крылатой, т. е. с птицей, и переводит изречение так: и вместе с мерзостной птицей (или: под мерзостной птицей) будет опустошитель. Под опустошителем же он разумеет римское войско, на что указывает контекст и что подтверждает Христос, говоря: Когда увидите Иерусалим, окружённый войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его (Лк.21:20), о чём и Матфей и Марк сказали: Когда увидите мерзость запустения. Птица, по мнению Зостмана, означает орла, под изображением которого (на знамёнах) Римляне сражались. Названа она мерзостной по причине идольского служения, которое оказывали ей воины. Смысл изречения тот, что под знамёнами с изображениями орлов придёт, для опустошения Иерусалима, римское войско 344 .
Недостаток этого толкования в отступлениях от буквы пророчества: предлог на произвольно заменяется противоположным ему по значению предлогом под; вместо крыла ставится орёл.
Известный составитель Еврейско-немецкого лексикона и Еврейской грамматики Гезений полагает, что в рассматриваемом изречении разумеются крылья мерзостного идола, на которых будет переносим антихрист. Мнение остроумное. Оно, хотя и не в применении к этому именно изречению, за много веков до Гезения было высказано Св. Ефремом Сирином. Нет ничего невероятного в том, что антихрист не только будет носим на крыльях, но просто будет летать на крыльях. Уже и в настоящее время астронавтика (наука о воздухоплавании) ушла столь далеко вперёд, что изобретение хороших воздухоплавательных снарядов можно ожидать в недалёком будущем (плохие воздухоплавательные снаряды уже и теперь есть). Но что именно в рассматриваемом изречении говорится о летании антихриста на крыльях, или о том, что он будет переносим на крыльях какого-то предмета, это одна догадка. Основание для этой догадки только одно: не только нет препятствий, а есть даже и основания в этом изречении находить указание на антихриста. Со своей стороны мы хотя и не отвергаем прямо этой догадки, но и не придаём ей научной важности. Она остроумна, но не имеет научной обоснованности и твёрдости.
Но главное возражение против этой догадки может быть то, что нет крайней необходимости прибегать к ней и предпочитать её широко распространённое и не неосновательное мнение, что в рассматриваемом изречении есть указание на храм. Это мнение основывается на связи речи, разумеем слова о прекращении жертвы и приношения. Далее, это мнение сильно подкрепляется параллельными изречениями из самой же книги Даниила (11и 12:11) и из Евангелия Матфея (24:15) и Марка (13:14). В Евангелиях, со ссылкой на Даниила, прямо говорится о мерзости запустения, как стоящей на святом месте, или где не до́лжно. Затем, это мнение подтверждается повествованием Евангелистов Матвея и Луки об искушении Иисуса Христа в пустыне дьяволом. Несомненно, что они греческим словом πτερύγιον назвали какую-то часть храма Иерусалимского, как это видно из прибавленного к этому слову определительного слова τοῦ ἱερόῦ. Если они назвали эту часть храма по-гречески крылом, то естественно допустить, что она имела название и на еврейском языке и что по-еврейски она называлась однозначащим с πτερύγιον словом канаф. Быть может, как πτερύγιον, так и канаф не содержит в себе понятия о верхе, кровле, вершине и вообще о высшем пункте чего бы то ни было; но вполне возможно такое понятие находить в выражении ве иль кенаф – и на крыле, на крыльях. Птица поднимается на воздух и парит на ужасающей высоте на крыльях, при помощи крыльев, и с выражением: на крыльях, несомненно, соединяется представление о подъёме вверх, о пребывании в воздухе, выше поверхности земли. Наконец, находить в рассматриваемом изречении указание на храм побуждает авторитетный перевод Семидесяти 345 .
Продолжение главы [здесь]
|
Комментариев: 0
|